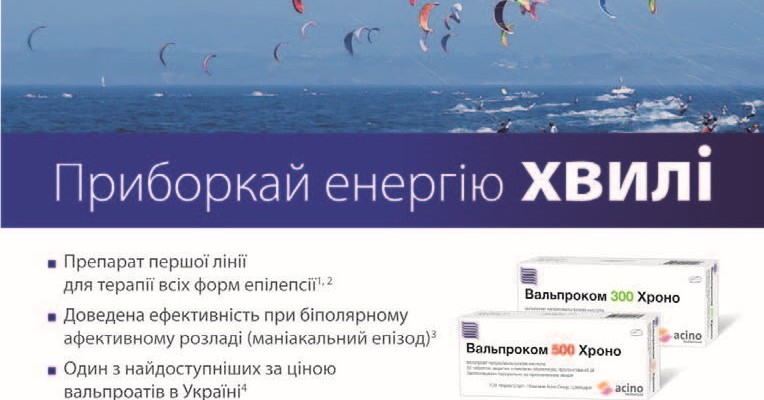
В статье обсуждаются современные представления о взаимодействии генного полиморфизма и факторов среды при манифестации расстройств аутистического спектра (РАС).
Резюме. Представлен скрининговый инструментарий для оценки развития ребенка и предварительной диагностики РАС, порядок окончательной диагностики врачами-специалистами. Освещены особенности течения РАС при коморбидных психических расстройствах и общих медицинских состояниях. В статье представлена модель лечения расстройств общего развития, разработанная в Украинском научно-исследовательском институте социальной и судебной психиатрии и наркологии, отражены особенности применения психосоциальных интервенций, терапии лекарственными средствами коморбидных психических и неврологических расстройств.
Ключевые слова: первазивные расстройства развития; расстройства аутистического спектра; диагностический скрининг; функциональный диагноз; психосоциальные интервенции; терапия лекарственными средствами.
В 1946 году Бернаром Римландом (Bernard Rimland) было введено в клиническую практику понятие «нарушение нейроразвития». Это явилось началом формирования современных представлений о происхождении первазивных расстройств развития (аутистических расстройств). Базовые тезисы об аутизме как нарушении нейроразвития были изложены автором в книге «Детский аутизм: синдром и его последствия для нейронной теории поведения». Современное определение расстройств аутистического спектра (РАС) как «поведенческого синдрома, имеющего биологическую основу (системные нарушения развития мозга), происхождение которого объясняется взаимодействием генетических факторов и факторов среды», впервые было предложено и обосновано М. Херберт (Martha Herbert) в опубликованном в 2005 г. аналитическом обзоре [1].
Аутизм когда-то считался сравнительно редким заболеванием. Последние эпидемиологические данные существенно изменили это мнение. По результатам обширного исследования, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), распространенность расстройства в США составила 1 случай на 88 детей. Показатель распространенности не зависит от расовых, этнических и социально-экономических отличий. Заболевание в пять раз чаще встречалось у мальчиков (1 на 54), чем у девочек (1 на 252). [].
Эпидемиологические исследования, проведенные в Азии, Европе и Северной Америке, демонстрируют среднюю распространенность РАС – около 1%. При недавнем изучении этого вопроса в Южной Корее, где исследовались школьники, данный показатель составлял 2,6% (3,7% среди мальчиков и 1,5% среди девочек) [2]. Результаты различных эпидемиологических исследований, проведенных в мире, сложно сравнить. Они различаются размерами выборок, способами и критериями рандомизации, критериями диагностики и используемыми инструментами. В отдельных исследованиях не принимали во внимание случаи первазивных нарушений развития, ассоциированных с тяжелой умственной отсталостью, врожденными аномалиями развития мозга, эпилепсией, недоношенностью; часто не учитывались дети, демонстрировавшие ускоренное развитие, не свойственное их возрасту, а также получавшие специальную поддержку в подростковом возрасте. Это объясняет, почему распространенность РАС в Китае (6,4 на 10 тыс.) значительно ниже, чем в Европе и США [3].
Показатель заболеваемости РАС в Украине возрастает с 2006 года, к 2017 году количество впервые диагностированных случаев заболевания возросло в 8,5 раза (на конец 2017 года составило 998). Показатель распространенности РАС также стабильно рос: в 2006 г. – на 27,2%, в 2007 г. – на 19,1%, 2008 г. – на 20,2%, 2009 г. – на 20,0%, 2010 г. – на 16,4%, 2011 г. – на 37,8%, 2012 г. – на 25,3%, 2013 г. – на 38,0%, 2014 – на 4,6%, 2015 г. – на 26,4%, 2016 г. – на 25,3%. На конец 2017 года этот показатель составил 27,8 случая заболевания РАС на 100 000 детского населения в Украине. Количество пациентов с РАС, состоящих на учете, возросло с 662 человек в 2005 году до 7491 пациента в 2017 году.
Не вызывает сомнений, что различия в статистических данных в разных регионах мира объясняются различиями в качестве диагностики РАС, прежде всего, квалификации случаев с тяжелыми и функциональными формами расстройств и осведомленности населения.
Роль генетических факторов в генезе аутизма является определяющей. По оценкам экспертов, она достигает 90% [4]. Генетические факторы гетерогенны, сложны и, в основном, плохо исследованы.
Показания о значимости генетического фактора в генезе РАС получены из многих источников, в том числе по результатам исследований близнецов.
Согласно данным, приведенным R. Muhle с соавт. в статье «Генетика аутизма», опубликованной в журнале «Педиатрия», у сиблингов, пробанды которых страдают от аутизма, расстройство встречается в 50–200 раз чаще, чем в общей популяции [5].
В семейной истории пробандов, не болеющих РАС, также повышена распространенность легких нарушений развития в субсферах, связанных с коммуникацией и социальными навыками. Конкордантность для аутизма колеблется от 0 до 27% у гетерозиготных и от 36 до 96% у монозиготных близнецов [6].
Точные механизмы действия генетических факторов исследуются с помощью геномного скрининга, цитогенетических исследований и оценки генов-кандидатов [7]. В течение последних двух десятилетий описаны многочисленные варианты генного полиморфизма, в той или иной степени ассоциированного с РАС, в отдельных локусах 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 17 и 22 хромосомы. Мутации также обнаружены в локусах 15q11-q13. Установлено незначительное влияние на риск манифестации аутизма генного полиморфизма локусов 5p14.1 и 5p15. Однако за счет описанных мутаций удается объяснить не более 10% случаев РАС.
Высокая конкордантность случаев аутизма у монозиготных близнецов и низкая – у дизиготных позволила выдвинуть гипотезу о том, что значительная часть случаев заболевания может быть объяснена появлением новых мутаций, в частности вариаций числа копий (спонтанных делеций и дупликаций участков геномов при мейозе). Именно такие мутации могут являться причиной рождения значительного количества детей с аутизмом в семьях, в семейных историях которых не установлены случаи первазивных расстройств развития [8].
Вариативность количества копий приводит к различию индивидуальных геномов по количеству копий сегментов ДНК. Геномы диплоидных организмов, в том числе человека, содержат обычно по две копии каждого аутосомного участка, по одному на каждую хромосому. Делеции и дупликации способны влиять на их количество. Результатом генной вариации может быть уменьшение или увеличение количества копий определенного гена и, следовательно, снижение или повышение экспрессии продукта гена (соответствующего белка или некодирующей РНК).
Различия в количестве копий генов могут обуславливать склонность человека к различным заболеваниям [8–9]. Например, повышенное количество копий гена CCL3L1 связывают со снижением риска заболеваемости СПИДом, снижение числа копий FCGR3B — с повышенным риском развития системной красной волчанки и других воспалительных аутоиммунных заболеваний, аутизма, шизофрении, биполярного расстройства.
Коллективами исследователей из 7 стран (Великобритании, Исландии, России, Украины, Грузии, Македонии и Сербии) был создан международный научный консорциум, проведший широкомасштабное генотипирование образцов ДНК больных и лиц контрольной группы с использованием технологии микрочипов в рамках Седьмой рамочной программы научно-технологического развития Европейского союза (FP7). В процессе исследования участниками научного консорциума было выявлено более 40 тысяч редких мутаций, обуславливающих повышение риска манифестации аутизма, шизофрении и биполярного расстройства в детском возрасте, а также 5000 распространенных и 320 000 одноморфологических вариантов гена. Около 1% всех изученных вариантов полиморфизма были отобраны для более тщательного исследования с использованием молекулярно-генетических и цитогенетических методов [10-16].
Коморбидность РАС с нарушениями активности и внимания, эпилепсиями, а также психотические расстройства у пациентов с РАС могут быть объяснены фенотипическим полиморфизмом ряда генных мутаций: 1q21.1-синдром может проявляться расстройствами с дефицитом внимания и гиперактивностью, расстройствами рецептивной и экспрессивной речи; 15q13.3-синдром – расстройствами речи, РАС, шизофренией и эпилепсией; 2p16.3-синдром – РАС, шизофренией и эпилепсией [17-21].
РАС рассматриваются как результат взаимодействия генетических и средовых факторов [22-26].
К факторам, повышающим риск первазивного развития в период зачатия, относятся: 1) наличие случаев РАС, расстройств развития речи, тяжелых психических расстройств (шизофрении, биполярного расстройства) в семейной истории; 2) старший (более 30 лет) возраст матери и/или отца на момент зачатия; 3) зачатие ребенка путем экстракорпорального оплодотворения. Старший возраст отца больше влияет на риск развития РАС, чем старший возраст матери. Не получены доказательства того, что именно поздний возраст матери, а не ассоциированные с ним нарушения протекания беременности и патологии родов повышают риск первазивного развития. Прием женщинами за год до зачатия ребенка антидепрессантов сопровождается двукратным, солей вальпроевой кислоты – четырехкратным увеличением риска развития РАС у ребенка. Экстракорпоральное оплодотворение повышало риск РАС в 7 раз. Не получены прямые доказательства того, что именно экстракорпоральное оплодотворение, а не поздний возраст матери является причиной большей частоты заболеваний РАС.
С нарушениями нейроразвития также связывают ряд вредных факторов, действующих во время беременности и родов. Все известные тератогении вызывают врожденные пороки развития, воздействуя на эмбриогенез в течение первых восьми недель после оплодотворения. Более поздние вредные факторы оказывают большее влияние на тяжесть первазивных нарушений, чем на вероятность их возникновения. Доказано повышение риска РАС при наличии одного или нескольких неблагоприятных факторов в акушерском анамнезе – низкого веса при рождении (< 2500 г), низкой оценки по шкале Апгар на 5 мин. (< 6 или < 7), гестационного возраста при рождении < 37 недель, родовспомогательных операций в акушерском анамнезе. Разные пороки развития во время беременности повышают риск первазивного развития в равной степени, риски разных факторов не суммируются. Табакокурение во время беременности повышает риск РАС в 2,6 раза. Высшая вероятность диагностики РАС коррелирует с госпитализацией матери в первом триместре беременности в связи с вирусной инфекцией, во втором триместре – с бактериальной. Прием антибактериальных и противовирусных лекарственных средств во время беременности увеличивает риск аутизма в 4 раза. Установлено двукратное увеличение риска заболевания РАС детей матерей, которые использовали селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) в течение года до родов, и трехкратное увеличение риска при приеме СИОЗС в первом триместре беременности.
Установлено пять факторов окружающей среды – ртуть, кадмий, никель, трихлорэтилен и винилхлорид, увеличение экспозиции которых ассоциировано с РАС. Еще три экологических фактора риска — проживание в урбанизированных регионах, расположенных в более высоких широтах или регионах с высоким уровнем осадков в течение года — могут быть связаны с недостаточностью солнечной инсоляции и развитием дефицита витамина D. Витамин D играет важную роль в восстановлении повреждений ДНК и защите генома от окислительного стресса, являющегося основной причиной его повреждения. Факторы, связанные с дефицитом витамина D, предположительно способствуют повышению частоты новых мутаций и затрудняют регенерацию генов.
Диагностику и лечение РАС в Украине рекомендуется проводить в соответствии с требованиями Унифицированного клинического протокола первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи и медицинской реабилитации «Расстройства аутистического спектра (расстройства общего развития)». Документ разработан на основе адаптированных клинических руководств NICE CG 128 [27], NICE CG 142 [28], рекомендаций Американской академии детской и подростковой психиатрии [29].
На этапе первичной медицинской помощи во время плановых профилактических осмотров в 9, 18, 24 и 36 месяцев должен проводиться скрининг развития детей, должны выявляться дети с задержкой развития. Впервые выявленное отставание в психическом и моторном развитии не должно превышать 1 месяц в возрасте до 12 месяцев, 3 месяца — в возрасте до 24 месяцев, 6 месяцев — в возрасте до 36 месяцев. При выявлении большей задержки развития необходимо провести консультирование родителей / опекунов по уходу за ребенком, научить их тому, как проводить ранние интервенции, навязывать ребенку навыки, формирование которых задерживается. Также следует назначить осмотр ребенка в динамике с повторной оценкой его развития с использованием специального скринингового инструментария. Дополнительный специальный скрининг рекомендуется проводить при наличии у ребенка описанных ранее факторов риска РАС, заболеваний, обладающих высоким уровнем коморбидности с РАС. Специальный скрининг также рекомендуется проводить старшим детям, если у них имеют место нарушение социального взаимодействия и коммуникации. При отсутствии положительной динамики при повторной оценке психического развития врач первичной практики должен назначить консультацию детского психиатра, при его отсутствии – детского невролога.
Для оценки развития и предварительной диагностики РАС разработан многочисленный скрининговый инструментарий:
РАС в значительной степени связан с рядом коморбидных психических расстройств и медицинских состояний. Детям с РАС на этапе первичной медицинской помощи также должно проводиться комплексное медицинское обследование, направленное на выявление симптомов сопутствующих заболеваний, которые могут иметь причинно-следственную связь с нарушениями общего развития. Приблизительно у 50% лиц с РАС наблюдается тяжелая и глубокая умственная отсталость, у 35% имеет место легкая / умеренная интеллектуальная недостаточность, и только у 15% детей с РАС познавательные функции соответствуют возрастным нормам. Распространенность РАС при некоторых медицинских состояниях, ассоциированных с аутизмом, составляет: при синдроме ломкой Х-хромосомы – 24-60%, туберозном склерозе – 26-79%, неонатальной / эпилептической энцефалопатии / инфантильных спазмах – 4-14%, синдроме Дауна – 6-15%, мышечной дистрофии – 3-37%, нейрофиброматозе – 4-8%.
Всем детям с РАС должно проводиться медицинское обследование, включающее физикальное обследование, аудиометрию, обследование лампой Вуда на наличие признаков туберозного склероза, а также, по возможности, генетическое тестирование, в частности кариотипирование, тестирование G-диапазонов, ломкой Х-хромосомы или хромосомной матрицы.
Особое внимание необходимо уделять выявлению кожных стигм нейрофиброматоза, туберозного склероза, стигм дизембриогенеза и аномалий развития, в том числе микро- и макроцефалии.
При туберозном склерозе и гипомеланозе (расстройствах, наблюдаемых в 6–10% случаев РАС) небольшие или значительные участки кожи депигментированы. При туберозном склерозе наблюдаются дефекты кожи в виде узловой сыпи с жесткими грязно-красными и пурпурными папулами. Они могут появляться впервые в школьном возрасте, сначала вокруг носа, на щеках, и на ранних стадиях заболевания ошибочно восприниматься как обычная угревая сыпь. При нейрофиброматозе на коже могут появляться пузырьки (опухоли) темного цвета, большое количество бесцветных и так называемых кофейных (кофейно-молочных) пятен, происходят изменения в костях челюсти и т. д. Однако большинство кожных изменений не нуждаются в терапевтических вмешательствах.
РАС при туберозном склерозе имеют более тяжелые клинические проявления: пациенты характеризуются большей замкнутостью, своеобразным пронзительным взглядом и раздражительностью. Взрывы гнева и вспышки гиперактивности часто сопровождаются самоповреждающим поведением. Для этого синдрома свойственны частые и серийные эпилептические приступы, тяжелая или глубокая умственная отсталость.
Некоторые случаи РАС, ассоциированные с синдромом Ретта и генным полиморфизмом по 15-й хромосоме, сопровождаются нарушениями осанки – сколиозом или кифозом. Начиная с подросткового возраста, нарушения осанки могут становиться настолько тяжелыми, что могут привести к инвалидизации, потребуют ортопедического лечения.
У пациентов с синдромом Мёбиуса средней и легкой степени часто наблюдаются анатомические аномалии верхних и нижних конечностей. Эта патология может приводить к значительным нарушениям мелкой моторики и координации движений, ошибочной диагностике синдрома Ретта.
Причиной задержки формирования моторных навыков при РАС могут быть диспраксические нарушения (диспраксии развития), которые нередко ошибочно квалифицируются как церебральный паралич. У пациентов с РАС и синдромом ломкой Х-хромосомы часто наблюдается мышечная гипотония и высокая растяжимость мышечно-связочного аппарата, что ведет к чрезмерной гибкости суставов.
У пациентов с РАС могут наблюдаться нарушения формирования вторичных половых признаков. Подростки и взрослые мужчины с синдромом ломкой Х-хромосомы имеют гениталии (особенно яички), значительно больше физиологической нормы. Пациенты с другими хромосомными нарушениями (XXY-синдромом, синдромом Прадера – Вилли), напротив, имеют гениталии очень маленьких размеров. В обоих случаях косметические дефекты половых органов могут являться причиной стигматизации и травматических переживаний.
Врач общей практики — семейный врач должен организовать сотрудничество с семьей, учитывая, что взаимодействие с членами группы первичной поддержки ребенка может быть спорадическим.
Вопросы соблюдения общей программы лечения, медико-социальной реабилитации и организации социальной инклюзии, назначенной врачами-специалистами, являются приоритетными.
При общем медицинском осмотре необходимо искать признаки травм, связанных с насилием и самоповреждающим поведением. Дети с РАС могут становиться объектами издевательств и насилия со стороны сверстников и людей, которые о них заботятся.
Для детей школьного возраста наиболее актуальным является преодоление поведенческих проблем и организация обучения.
Для подростков первостепенное значение имеет профессионально-техническое образование, приобретение профессиональных навыков, достижение максимально возможной самостоятельности / независимости.
Молодых взрослых в возрасте до 25 лет нужно направлять к специалистам, которые оказывают поддержку лицам с особыми потребностями по месту жительства.
В рамках долгосрочного сотрудничества с врачом первичной практики – семейным врачом родители / опекуны и сибсы детей с РАС также должны получать поддержку. Учитывать следует признаки нарушений нейроразвития, в частности нарушения активности и внимания, недостаток социальной перцепции и социальной реципрокности у лиц из группы первичной поддержки ребенка. Важное значение имеет скрининг аффективных расстройств у родителей детей с РАС, в частности, выявление и терапия вовремя не диагностированных послеродовых депрессий у матерей. Человек с РАС создает значительные проблемы для семьи и сибсов. Следует учитывать повышенный риск развода родителей, социальную изоляцию семьи в результате загруженности проблемами больного ребенка, злоупотребление привлечением здоровых сибсов к оказанию помощи больному ребенку, снижение их образовательных и культурных возможностей.
Окончательная диагностика и лечение РАС у лиц до 18 лет осуществляются врачом-психиатром детским, а у лиц с 19 лет – врачом-психиатром в лечебных учреждениях, оказывающих вторичную (специализированную) психиатрическую помощь.
Специализированная психиатрическая помощь детям должна быть предоставлена отдельно от психиатрической помощи взрослым, преимущественно в амбулаторных условиях: в консультативно-диагностических подразделениях больниц, городских детских больницах, больницах восстановительного лечения, специализированных детских медицинских центрах, в том числе центрах медицинской реабилитации.
Госпитализация детей с РАС для оказания психиатрической помощи должна осуществляться преимущественно по месту жительства (нахождения) ребенка с обеспечением условий, исключающих длительное лишение связей с родителями и другими законными представителями. Например, рекомендовано применение полустационарного лечения, госпитализация ребенка с одним из родителей исключительно в случаях, когда лечение таких детей неэффективно в амбулаторных условиях, требует круглосуточного наблюдения, может сопровождаться непредсказуемым значительным ухудшением состояния психического здоровья, побочными эффектами и осложнениями, если ребенок делает или выявляет реальные намерения совершить действия, составляющие непосредственную опасность для него или окружающих.
Стационарная специализированная психиатрическая помощь должна быть предоставлена в многопрофильных больницах, больницах восстановительного (реабилитационного), планового лечения, специализированных медицинских центрах. Вторичную (специализированную) медицинскую помощь могут также оказывать детские психиатры; врачи-психиатры, осуществляющие хозяйственную деятельность (медицинскую практику) как физические лица – предприниматели.
Окончательная диагностика РАС проводится врачом-специалистом на основании диагностических критериев МКБ-10 (ВОЗ, 1992), а с 2018 года – МКБ-11. Критерии DSM-5 в Украине используются как дополнительные, например, при проведении научных исследований. Применение диагностических систем МКБ и DSM позволяет проводить диагностику РАС с 2 лет.
Формализованная оценка проводится с использованием полуструктурированного интервью с родителями (Autism Diagnostic Interview Revised – ADI-R) и полуструктурированной оценки аутистических форм поведения (Autism Diagnostic Observation Schedule – ADOS), в том числе для детей от 12 до 30 месяцев (ADOS Toddler, модуль T). Для оценки тяжести аутистической симптоматики может использоваться детская рейтинговая шкала аутизма (Childhood Autism Rating Scale — CARS).
Особое значение при постановке диагноза на этапе специализированной психиатрической помощи имеет оценка у пациента с РАС когнитивного функционирования, сформированности школьных навыков и развития речи.
РАС необходимо дифференцировать со специфическими расстройствами развития (расстройствами речи, двигательных функций и школьных навыков), сенсорными нарушениями (особенно глухотой), расстройствами родительско-материнской привязанности, умственной отсталостью, селективным мутизмом, шизофренией с нетипичной манифестацией в раннем возрасте, психическими расстройствами, обусловленными органическими поражениями мозга, гиперкинетическим расстройством.
Для оценки когнитивного функционирования и формирования школьных навыков у детей с РАС рекомендованы: шкала Бейли для оценки развития младенцев II (Bayley Scales of Infant Development II), шкала Векслера для дошкольного и начального школьного возраста (WPPSI-IV), тест Стэнфорд — Бине (Stanford-Binet Tests), шкала Маллен для оценки предпосылок для формирования школьных навыков (Mullen Scales of Early Learning), батарея оценочных тестов для детей Кауфмана (Kaufman Assessment Battery for Children), тест Мерил Палмер для оценки развития младенцев и детей дошкольного возраста (MPR). Для оценки уровня когнитивного функционирования у детей без устной речи может использоваться психообразовательный профиль Шоплера (PEP) и тест Кетелла.
При диагностике расстройств речи необходимо отдельно оценивать развитие экспрессивной речи, понимание речи, навыки диалоговой речи и речевой артикуляции. Для оценки речи у детей с РАС рекомендованы: тест для оценки сформированности словаря понимания речи (Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – ROWPVT), тест для оценки сформированности словаря экспрессивной речи (Expressive One-Word Picture Vocabulary Tests – EOWPVT), тест для клинической оценки речевой артикуляции (Goldman-Fristoe Test), тест для клинической оценки прагматических расстройств речи (Test of Pragmatic Language – TOPL), последовательный кадастр коммуникативного развития (Sequenced Inventory of Communicative Development – SICD), тест для доклинической оценки предпосылок речевого развития (PreClin PRE-CELF), тест для клинической оценки развития речи (Clinical Evaluation Language Fundamentals – CELF), шкала речевого развития для дошкольного возраста (Preschool Language Scales), шкала Рейнел для оценки речевого развития (Reynell Developmental Language Scales).
Для оценки поведенческих расстройств рекомендованы: список нарушений поведения (Aberrant Bechavior Checklist – ABC), шкала адаптивного поведения Вайнленд (Vineland), шкала самостоятельности поведения, пересмотренная (Scales of Independent Behavior & Revised), опросник для определения социально-эмоционального развития (Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional – ASQ: SE), расписание наблюдения за поведением (The Behavior Observation Schedule – BOS), расписание этиологического анализа поведения (The Ethiological Observation Schedule – EOS).
Основными составляющими терапии детей с РАС являются: ранняя психосоциальная интервенция; осторожное и уравновешенное применение медикаментозной терапии, эффективность которой подтверждена; активное участие семьи на базе достигнутого комплайенса; применение любых форм интервенций исключительно в амбулаторных условиях [33–34].
Требования к объему медико-социальной реабилитации детей с РАС должны определяться:
а) биологическим и психологическим возрастом ребенка;
б) тяжестью расстройства;
в) степенью когнитивной недостаточности;
г) наличием и тяжестью расстройств рецептивной и экспрессивной речи;
д) наличием перцепторных расстройств и автостимуляций;
е) наличием нарушений активности и внимания.
Первазивные расстройства развития являются главной причиной инвалидизации у детей и молодых взрослых, они приводят к значительным экономическим и социальным убыткам [30-32].
Мало известно об экономической эффективности медицинских вмешательств и социальной помощи лицам с РАС на разных жизненных этапах. Уровнем доходов на душу населения данные о расходах на менеджмент РАС существенно различаются. В США затраты в течение жизни одного пациента с диагнозом РАС и интеллектуальной недостаточностью составляют, в среднем, 2,2 млн. долларов, в Великобритании — 1,5 млн. фунтов. На одного пациента с РАС без умственной отсталости тратится 1,4 млн. долларов и 0,92 млн. фунтов соответственно. В Германии расходы по ведению пациентов с РАС составляют 70% от расходов в Великобритании при подобных структурах расходов в разных возрастных категориях. В структуре расходов 25% приходится на специальное образование в детском возрасте, 12% – на поддержку в связи с потерей производительности труда родителей, 58% – на потерю социальной производительности индивидов с РАС во взрослом возрасте. Следовательно, косвенные немедицинские расходы и экономические последствия аутизма во взрослом возрасте превышают затраты на медико-педагогическое сопровождение в детском возрасте. Можно сделать важный практический вывод: ранние интервенции снижают общие затраты на одного пациента с РАС на протяжении всей жизни за счет лучших результатов социальной и трудовой адаптации. Значительные прямые и косвенные затраты, ассоциированные с РАС, а также бремя социальных последствий обосновывают актуальность дальнейшей разработки и внедрения ранних экономически эффективных вмешательств.
Стандартный объем медико-социальных вмешательств включает в себя поэтапное комбинированное применение нескольких реабилитационных тренингов:
а) тренинг сенсорной стимуляции и интеграции;
б) специализированные когнитивные тренинги (общей перцепции, подражания, школьных навыков);
в) бихевиоральные тренинги, направленные на элиминацию нежелательных форм поведения;
г) тренинги социального функционирования (социальная перцепция, эмоциональная когниция, элементарные навыки социального функционирования (прием пищи, личной гигиены, общение со сверстниками, использование бытовых приборов, поведение в классе и т.п.)).
При тяжелых формах общего недоразвития речи, тяжелых расстройствах рецептивной речи используются элементы методик альтернативной коммуникации (облегченная коммуникация, ярлыки, пиктограммы).
Подавляющую часть ежедневных упражнений с ребенком, согласно индивидуальным реабилитационным программам, выполняют родители, с аудитом сотрудников отдела. Составление, корректировка индивидуальных программ медико-социальной реабилитации детей, обучение родителей технике проведения тренингов проводятся нами во время периодических супервизий.
На первом этапе лечения ребенка с РАС основной целью терапии является устранение последствий влияния психопатологических расстройств на психомоторное развитие ребенка.
Основными формами психосоциального вмешательства при работе с последствиями психопатологических расстройств являются:
а) навязывание контакта с ребенком;
б) преодоление нейрофизиологических нарушений перцепции методами сенсорной стимуляции и интеграции;
в) наработка умений привлекать внимание к элементам окружающей среды, особенно к социальным стимулам, являющимся необходимым элементом процесса обучения;
г) элиминация патологических, прежде всего, агрессивных форм поведения с помощью прикладного поведенческого анализа (АВА-терапии);
д) работа с экспрессивной речью;
е) наработка умений подражать другим;
ж) обучение игре игрушками в соответствии с их назначением;
з) формирование коммуникативных навыков.
Сенсорная стимуляция и интеграция проводятся при выполнении стимуляционных секвенций – комплексов упражнений, направленных на преодоление нарушений сенсорного восприятия и уменьшение частоты и интенсивности автостимуляций. Сенсорные секвенции планируются из сенсорной диагностики индивидуально для каждого ребенка. В секвенцию вводятся тренинговые упражнения, нацеленные на все основные формы восприятия: тактильное (стимуляция кистей рук, стоп, лица и полости рта, поверхности тела); зрительное (упражнения в затемненной комнате, стимуляция зрения с помощью ярких предметов, локализованных излучателей света); обонятельное (презентация резких и слабых обонятельных раздражителей в зависимости от вида нарушения чувствительности: гипо- / гиперчувствительности); вестибулярное (повороты туловища, головы, кувырки, прыжки на упругой поверхности); вкусовое (презентация вкусовых раздражителей); проприоцептивное (стимуляция глубочайшего суставного чувства). Особое значение имеет стимуляция слуха из-за распространенности у детей с общими нарушениями развития тинитусов — ушных шумов, или повышенной слуховой чувствительности к отдельным разновидностям раздражителей.
Мы предлагаем родителям проводить стимуляционные секвенции 2–3 раза в день. Содержание секвенций следует пересматривать ежемесячно. При планировании последующих секвенций тренинговые упражнения следует усложнять, вводить новые разновидности раздражителей. При появлении возможности привлечения и, по крайней мере, непродолжительного удержания зрительного внимания ребенка, нужно начинать отрабатывать навыки выполнения им простых инструкций, а в секвенцию дополнительно вводить элементы когнитивного тренинга (информационные биты, упражнения на большую моторику, зрительно-моторную координацию).
На втором этапе лечения с расстройствами спектра аутизма целью терапии должно быть достижение максимального уровня когнитивного и социального функционирования, обеспечение возможности самостоятельного существования.
Психосоциальное вмешательство на этом этапе медико-социальной реабилитации предполагает:
а) диагностику уровня познавательного функционирования и последовательное усложнение обучения от секвенций с отдельными когнитивными упражнениями через дополнительные реабилитационно педагогические тренинги до индивидуальных учебных программ;
б) выработку коммуникативных навыков;
в) трансформацию навыков использования помощи в самостоятельной деятельности;
г) наработку альтернативных форм взаимопонимания при отсутствии экспрессивной речи;
д) формирование отдельных навыков социального взаимодействия.
Когнитивные тренинги на этом этапе медико-социальной реабилитации проводятся родителями больных детей по индивидуальной программе в виде коротких ежедневных занятий продолжительностью 15–20 мин. При необходимости назначаются дополнительные (1-2 раза в неделю) индивидуальные занятия со специалистами – коррекционными педагогами.
Содержание когнитивных тренингов для детей с РАС должно быть индивидуальным, в соответствии с уровнями их когнитивного функционирования. На более низком уровне занятия должны быть направлены на развитие подражания, перцепции, большой и мелкой моторики. При более высоком уровне когниции в тренинги включались упражнения на развитие зрительно-двигательной координации, познавательных функций и речи. На более высоком уровне сложности, доступном только части детей, следует предложить тренинги эмоциональной когниции и социальной перцепции. Эти тренинги преследуют цель обучения ребенка пониманию своих и обращенных эмоций: понимание схематически изображенных эмоций, градации чувств, связи эмоций с социальными ситуациями, формирование навыков оценивания и предвидения эмоциональных реакций других людей, формирование социально восприимчивых форм выражения эмоций, групповой социальной коммуникации.
РАС являются расстройствами с множественной коморбидностью. Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что 54-70% людей с РАС имеют одно или более психических заболеваний [39–41]. Расстройство дефицита внимания и гиперактивности встречается у 30-61%, тревожные расстройства – у 11-42%, депрессии – у 7% детей и 26% взрослых с РАС. Предполагается, что 11-42% пациентов с РАС страдают от одного или более тревожного расстройства. Для сравнения: по оценкам Центра по контролю заболеваемости и профилактики США, тревожные расстройства наблюдаются у 3% детей и 15% взрослых общей популяции. Социальная тревожность (страх новых людей, толпы и социальных ситуаций) часто встречается у детей и взрослых с РАС. У многих детей с РАС наблюдается усиление тревожности в подростковом возрасте, которое сохраняется на протяжении всей жизни. Психотические симптомы (бредовые идеи, обманы восприятия) также нередко встречаются у детей с первазивными расстройствами развития: шизофрения – у 4-35%, биполярное аффективное расстройство – у 6-27% взрослых с РАС.
Медикаментозное лечение при РАС преследует четыре основные цели: 1) устранение психопатологических симптомов коморбидных расстройств психики; 2) устранение поведенческих расстройств (агрессии, самоповреждающего поведения); 3) повышение эффективности психосоциальных интервенций; 4) улучшение качества жизни ребенка и его семьи.
Выбор лекарственных средств, применение которых опирается на принципы доказательной медицины, невелик. При коморбидных маниях и гипоманиях рекомендованы соли вальпроевой кислоты и атипичные антипсихотики. Рисперидон и арипипразол рекомендованы с шестилетнего возраста; оланзапин, зипразидон, кветиапин следует назначать детям старше 12 лет. При коморбидных депрессиях обосновано применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, прежде всего, флуоксетина (согласно международным стандартам, назначают детям с 6 лет). При коморбидных тревожных расстройствах у детей с 6 лет рекомендованы флуоксетин и сертралин, в подростковом возрасте – циталопрам и эсциталопрам. При расстройствах активности и внимания у детей с РАС в 50–60% случаев эффективны метилфенидат и атомоксетин; менее эффективны, но имеют достаточную доказательную базу для использования в качестве препаратов третьей линии, альфа-агонисты (гуанфацин, клонидин). При РАС с коморбидными эпилепсиями предпочтение следует отдавать солям вальпроевой кислоты, ламотриджину, леветирацетаму и этосуксимиду. Вальпроаты и ламотриджин гармонично влияют как на судороги, так и на поведенческие расстройства; карбамазепин, окскарбазепин и топирамат, по сравнению с вальпроатами и ламотриджином, чаще усиливают раздражительность, гиперактивность и импульсивность, поэтому их применение у детей с РАС должно сопровождаться нейрокогнитивным мониторингом; этосуксимид и леветирацетам оказывают наименьшее негативное влияние на другие клинические признаки РАС у детей; фенитоин и клоназепам отрицательно влияют на течение эпилепсий и клинические проявления РАС.
Существует необходимость в усилении национального потенциала в уходе за детьми, подростками и взрослыми, страдающими РАС и другими нарушениями нейроразвития. Для достижения этой цели национальные эксперты должны решить задачи в разных областях.
Необходимо:
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов при подготовке данной статьи.